-



ХОЗЯЕВА: Киев, площадь Калинина, 1942 год. Немецкие солдаты устанавливают дорожный знак.
Письмо матери
15 сентября 1941 года под Бердичевом нацисты расстреляли 38,5 тыс. евреев. В числе погибших была Екатерина Витис — мать писателя Василия Гроссмана. Накануне расстрела она написала сыну прощальное письмо. Письмо длинное. Вот семь коротких, но трогательно-поучительных цитат из него


1. Немцы ехали на грузовике и кричали: “Juden kaputt!” А затем мне напомнили об этом некоторые мои соседи. Жена дворника стояла под моим окном и говорила соседке: “Слава Богу, жидам конец”. Откуда это? Сын её женат на еврейке, и старуха ездила к сыну в гости, рассказывала мне о внуках.
2. Многие люди поразили меня. И не только темные, озлобленные, безграмотные. Вот старик-педагог, пенсионер, ему 75 лет, он всегда спрашивал о тебе, просил передать привет, говорил о тебе: “Он наша гордость”. А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали, что он на собрании в комендатуре говорил: “Воздух очистился, не пахнет чесноком”. Зачем ему это — ведь эти слова его пачкают…. Но, Витенька, конечно, не все пошли на это собрание. Многие отказались.
3. Когда я собралась в путь и думала, как мне дотащить корзину до Старого города, неожиданно пришел мой пациент Щукин, угрюмый и, как мне казалось, черствый человек. Он взялся понести мои вещи, дал мне триста рублей и сказал, что будет раз в неделю приносить мне хлеб к ограде. Он работает в типографии, на фронт его не взяли по болезни глаз. До войны он лечился у меня, и если бы мне предложили перечислить людей с отзывчивой, чистой душой, я назвала бы десятки имен, но не его.
4. Я никогда не чувствовала себя еврейкой. С детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьесой, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских земских врачей, был Дядя Ваня со Станиславским. А когда‑то, Витенька, когда я была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе: “Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь”. И не уехала. А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви.
5. Здесь я вижу, что надежда почти никогда не связана с разумом, она — бессмысленна, я думаю, ее родил инстинкт. Люди, Витя, живут так, как будто впереди долгие годы. Нельзя понять, глупо это или умно, просто так оно есть. И я подчинилась этому закону. <…>. Понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю: “Если будете систематически промывать лекарством глаза, то через две-три недели выздоровеете”. Я наблюдаю старика, которому можно будет через полгода-год снять катаракту. Я задаю Юре уроки французского языка, огорчаюсь его неправильному произношению. А тут же немцы, врываясь в гетто, грабят, часовые, развлекаясь, стреляют из‑за проволоки в детей, и все новые, новые люди подтверждают, что наша судьба может решиться в любой день. Вот так оно происходит — люди продолжают жить. У нас тут даже недавно была свадьба.
6. После войны жизнь снова зашумит, а нас не будет. Мы исчезнем, как исчезли ацтеки. Крестьянин, который привез весть о подготовке могил, рассказывает, что его жена ночью плакала, причитала: “Они и шьют, и сапожники, и кожу выделывают, и часы чинят, и лекарства в аптеке продают… Что ж это будет, когда их всех поубивают? ” И так ясно я увидела, как, проходя мимо развалин, кто‑нибудь скажет: “Помнишь, тут жили когда‑то евреи, печник Борух. В субботний вечер его старуха сидела на скамейке, а возле нее играли дети”. А второй собеседник скажет: “А вон под той старой грушей-кислицей обычно сидела докторша, забыл ее фамилию. Я у нее когда‑то лечил глаза, после работы она всегда выносила плетеный стул и сидела с книжкой”. Так оно будет, Витя. Как будто страшное дуновение прошло по лицам, все почувствовали, что приближается срок.
7. Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал для тебя ближе матери. Прости меня. С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания. Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе?
Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.
Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, ее никто не в силах убить.
Метки этой темы
 Ваши права
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума












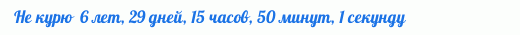

 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием
