-

Путь из варяг в украинцы
Более 200 лет назад в Речи Посполитой построили каналы, соединившие Балтийское и Черное море.
Самый длинный из них — Днепровско-Бугский — работает и поныне
Олег Шама
Поздней весной 1784 года в гавани Кенигсберга, главного города Восточной Пруссии, бросил якорь странный фрегат. Недоумение у хозяев вызвал порт приписки судна — Херсон.
Всего шестью годами ранее императрица Екатерина II издала указ о строительстве в низовьях Днепра верфи и города при ней — Херсона. Далеко не все географы того времени знали о существовании нового населенного пункта.
И уж совсем сказочным казался тогда пруссакам маршрут, по которому к ним прибыл корабль. В 1797 году силезский текстильный промышленник и статистик Аугуст Задебек вскользь упомянул об этом в своей книге Конец Польши.
Судно прошло Днепр, минуя пороги, затем — его правый приток Припять. Не доходя до Пинска, свернуло в устье впадающей в нее Ясельды. Эта река соединялась новым 55‑километровым каналом со Щарой, притоком Немана. Его воды уже и принесли корабль в Балтийское море. А от устья Немана до Кенигсберга — рукой подать.
“Корабль имел на борту 35 лаштов [мера веса преимущественно зерна, равная 2,2 т],— писал Задебек.— В 1787‑м он же доставил в Кенигсберг 100 т соли”.
Удивляло не столько пройденное кораблем расстояние от Херсона до Кенигсберга — 2,5 тыс. км. Мало кто из тогдашних европейцев мог себе представить, как груженое парусное судно пробралось узкими белорусскими реками. Ведь там вряд ли можно было надеяться на ветра, сравнимые с морскими. Идти приходилось на веслах, а в теснинах и вовсе с помощью бурлаков.
Остались неизвестными ни название того корабля, ни имя его капитана. Также остается лишь предполагать, сколько времени понадобилось судну, чтобы проделать весь путь.
Зато историки отлично знают человека, который сделал это путешествие возможным,— Михал Казимир Огинский, великий литовский гетман, инициатор строительства канала, соединившего притоки Днепра и Немана. Он не пожалел 16 лет своей жизни, чтобы проект состоялся.
Вся затея обошлась в 12 млн злотых, большую часть которых выложил Матеуш Бутримович, пинский мечник — представитель польского короля, исполнявший обязанности судьи.
Вряд ли инвесторам вернулись их вложения в канал, поскольку у торговцев спрос на него был невелик. Чаще им пользовались для сплава древесины.
Тем более что куда крепче соединил Балтику и Черное море другой канал — Королевский. Его открыли в один год с проектом гетмана литовского.
После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Королевский канал полностью оказался на территории Российской империи и стал называться Днепровско-Бугским. Под этим именем он успел оставить свой след в истории не только Украины и Польши, но и СССР.


ДАЛЕКИЕ СОСЕДИ: Старая биржа Кенигсберга на берегу реки Преголи.
Примерно таким увидели город моряки и купцы, прибывшие сюда по
рекам и каналу Огинского из Херсона в 1784 году. Литография Фридриха
Бильса, 1850 год
Европа каналов
Пионерами в создании стратегически важных водных путей сообщения в Европе стали французы. В 1666 году барон Пьер-Поль Рике без согласования с администрацией короля Людовика XIV начал строить канал от Тулузы, стоящей на судоходной реке Гаронна, впадающей в Бискайский залив Атлантического океана, до Средиземного моря. Вскоре проектом заинтересовалось правительство Жан-Батиста Кольбера, и к личным инвестициям барона добавились государственные. Всего — 17 млн ливров.
Но оно того стоило. Ранее французские корабли плавали со средиземноморского побережья на атлантическое в обход Испании, с которой Париж постоянно воевал. Испанцы по чем зря топили даже торговые суда противника. Новый канал открыл перед французами безопасный внутренний путь.
Первые корабли по каналу Рике пошли через 15 лет после начала строительства.
Примерно в то же время на другом краю Европы — в сейме Речи Посполитой — всерьез обсуждали идею водного пути от Вислы до Днепра. Эти реки в те годы были фактически внутренними водными артериями страны. Однако постоянные войны всякий раз мешали внедрению инноваций.
К строительству канала, соединившего Балтийское и Черное моря, приступили лишь через столетие — в 1775 году. Свою руку и к этому каналу приложили уже упомянутые гетман Огинский и пинский судья Бутримович.
К тому времени Польша жила в политической агонии. Тремя годами ранее монархи Пруссии, Российской и Австрийской империй тайным договором разделили Речь Посполитую. И хотя на ее престоле оставался законно избранный король Станислав Понятовский, при нем Варшава стала сателлитом Петербурга. Не последнюю роль в этом сыграл давний роман между будущим польским монархом и Екатериной II, завязавшийся еще во времена, когда та была не императрицей, а женой Петра III, а сам Понятовский находился в России с дипломатической миссией от Саксонского двора.


Однако Огинский продолжал заниматься проектом, несмотря на политическую обреченность своей родины.
Любой канал — это не только выкопанная и залитая водой траншея: его дно и берега необходимо укрепить, построить в нужных местах дамбы и шлюзы, а для поддержания уровня воды провести водогонные каналы от ближайших озер. А еще — расширить русла узких рек, соединяемых каналом.
В Королевском одной из таких речушек был Мухавец, впадающий у Брест-Литовского в Западный Буг,— эта река, уже сливаясь с Наревом, несет свои воды в Вислу и Балтику. А в Черное море можно было попасть через крохотную Пину, приток Припяти, а по ней уже плыть до Днепра.
Русла Мухавца и Пины строителям пришлось углублять и расширять на протяжении 64 км и 74 км соответственно. При этом полностью рукотворная часть Королевского канала составила 58 км.
Все работы по строительству канала и шлюзов провел шведский инженер-гидротехник Шульц.
В начале лета 1784 года Матеуш Бутримович снарядил десять шухалей — речных плоскодонных судов — и из Пинска отправился с ними по новому каналу. До Варшавы добрались к осени. Видимо, по дороге часто задерживались, чтобы по дешевке закупить местные белорусские товары — мед, воск, копченую рыбу.
В польской столице экспедицию встретили с восторгом, и дальше она отправилась с товаром в Гданьск, который стоит в 15 км западнее от устья Вислы.
Поход пинского судьи сделал неплохую рекламу новому водному пути. В том же 1784‑м по нему в Пинск отправился король со свитой. Монарх назначил ежегодно 100 тыс. злотых на содержание и охрану канала. По этой причине рукотворную артерию и назвали Королевским каналом.
Вскоре восточные земли Речи Посполитой вместе с этим водным путем оказались в составе Российской империи. И в 1846–1848 годах Петербург решительно взялся за его реконструкцию. Судоходную ширину довели до минимума в 14 м, для поддержания уровня воды путь оснастили крепкими деревянными дамбами и поставили дополнительные шлюзы. Ежегодно на нужды канала казна выделяла 25 тыс. руб.
Так водный путь Висла—Днепр получил вторую жизнь. Ежегодно по нему на Запад уходило около 2 тыс. торговых судов. А в 1886‑м в Севастополь по каналу доставили пять морских миноносцев, построенных для России на верфи Шихау в прусском Эльбинге.


НЕПРОСТАЯ НАУКА: Днепровские лоцманы на одном из порогов реки, фото конца 1920-х
Рыцари Днепра
Проход по Днепру в Черное море в то время осложняли пороги — естественные горные образования, перегораживающие русло реки от Екатеринослава (сейчас — Днепр) до Александровска (сейчас — Запорожье). На протяжении 65 км их было девять.


В древнерусские времена пороги обходили, перетаскивая корабли по песчаному правому берегу. Но когда эту местность освоили запорожские казаки, появилось своеобразное сословие лоцманов, умевших проводить любые суда, минуя опасные скалы и валуны. Причем как вниз, так и вверх по реке.
Днепровские лоцманы получили особые права после того, как весной 1787 года провели через пороги большую флотилию Екатерины II,— императрица со свитой решила посетить недавно завоеванный Крым. После этой поездки Григорий Потемкин, наместник царицы в Таврии, утвердил лоцманскую организацию, которую составили 121 человек. К концу XIX века они жили в селениях Старые Кодаки, Сурские Хутора, Широкое и Лоцманская Каменка.
Семьи лоцманов освободили от рекрутских наборов и назначили весьма щадящие подати. Сами речные проводники получали государственное жалование и по первой необходимости должны были выходить на работу даже во время жатвы.
Метки этой темы
 Ваши права
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
















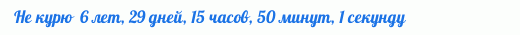

 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием
